Берёзовский мамонт

Берёзовский мамонт — уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экземпляр взрослого самца шерстистого мамонта, находящийся в экспозиции Зоологического музея Зоологического института РАН, первый образец мамонта, у которого сохранились мягкие ткани. Это позволило учёным сделать выводы о физиологии этого доисторического животного, которые невозможно было сделать по костным остаткам, исследовавшимся ранее (например, в мамонте Адамса)[1]. Назван в честь реки Берёзовки, на берегу которой был найден в 1900 году эвеном Семёном Тарабукиным. Ныне место его находки входит в природный парк «Колыма»[2].
Берёзовский мамонт стал символом Зоологического института Императорской академии наук и находится на его эмблеме[3].
Исследования мамонтов
До обнаружения «Берёзовского мамонта» самой выдающейся находкой такого рода был «мамонт Адамса», найденный в 1799 году на острове Быковском, в восточной части дельты Лены. Его также обнаружил туземный охотник О. Шумаков, который в течение нескольких лет наблюдал за тем, как понемногу вытаивает из почвы исполинская туша и использовал её на пропитание ездовых собак. В 1804 г. место находки посетил любознательный якутский купец Болтунов, представивший описание и зарисовки увиденного. В 1806 г. известие об этом мамонте дошло до профессионального натуралиста – шотландского ботаника на службе Российской академии наук М.И. Адамса, находившегося тогда в Якутске. Он организовал сбор остатков мамонта и доставку в Санкт-Петербург того, что сохранилось – целого скелета с небольшими фрагментами мягких тканей, кожи и шерсти. В 1808 году смонтированный скелет мамонта Адамса был выставлен в Санкт-Петербурге для всеобщего обозрения. Ни один музей мира в те годы не мог похвастаться подобным экспонатом[1].
История находки

Обнаружение
Местонахождение мамонта обнаружил охотник-эвен Семён Тарабукин Уяганского рода Колымского округа на берегу реки Берёзовки, правого притока Колымы, в августе 1900 года. Тарабыкин унёс с места находки бивень и продал его казаку Среднеколымской казачьей команды Иннокентию Явловскому, рассказав ему о показавшейся из мерзлоты туше. Казак отправился на берега Берёзовки и убедился, что туземец его не обманывает. Поскольку за обнаружение такой редкости полагается хорошая награда, Явловский подал рапорт исправнику, приписав честь находки себе:
«...бродя постоянно по тайге за промыслом и за розыском мамонтовой кости, дающими мне средства к жизни, я постоянно, вот уже в течение многих лет, прилагал старания к тому, чтобы обнаружить где-нибудь место нахождения мамонта. Наконец, ныне осенью мне удалось это: мною найден целый и почти совершенно сохранившийся мамонт. Находится найденный мной мамонт в Колымском округе, на левом берегу речки Берёзовки, впадающей в реку Колыму с правой стороны в 100 верстах ниже г. Средне-Колымска… Находится мамонт в полулежачем положении, так что голова его, уткнувшись подбородком в землю, находится почти в перпендикулярном положении… [в теле] от гнилости образовалось небольшое отверстие, чрез которое таким образом беспрепятственно можно проникнуть внутри тела мамонта; передние ноги не видны...»[1]
Исправник послал своего помощника, Николая Горна, чтобы тот проверил правдивость показаний Явловского.
Николай Горн, первым осмотревший в декабре 1900 года останки, сообщал в рапорте, что на поверхности почвы виднелась голова мамонта, нижнею своею частью уткнувшаяся в землю; к сожалению, верхние части нижних личных костей головы обрублены промышленниками, добывавшими клык мамонта. Голова оторвана прямо по черепной коробке и не имеет при себе ни одного шейного позвонка, покрыта вполне сохранившейся кожей каштанового цвета; глаза залеплены примёрзшею глиной… Непосредственно перед головою находится какая-то часть тела мамонта, с завернувшимся краем кожи, которая имеет как бы форму блюда, на котором лежит голова… Ребра видны через отверстие, образовавшееся на теле мамонта чрез гниение; гниение захватило и часть живота, поэтому доступ к желудку совершенно беспрепятствен. Из желудка мною была вынута часть содержимого, которое оказалось не вполне переваренною желудком травою, служившею мамонту пищею. Отделённый от желудка небольшой кусочек жира, будучи подожжён, довольно долго горел белым огнём и издавал запах обыкновенного животного жира. Остальные части тела, помимо описанных, уходят под почву, а потому определить, какие именно это части тела, не произведя полной раскопки мамонта, нельзя было[3].
После рапорта Горна был оповещен якутский губернатор В.Н. Скрипицын, который тоже оценил важность находки и 9 марта 1901 г. послал донесение в столицу. Его письмо добиралось до Петербурга почти месяц и 11 апреля было зачитано на заседании Физико-математического отделения Академии наук[1].
25 апреля по ходатайству академиков и Зоологического музея министр финансов С.Ю. Витте распорядился выделить из казны 16 300 рублей на организацию доставки мамонта в Петербург[1].
Подготовка экспедиции
Из Якутска о находке сообщили в Петербург. Зоологический музей Императорской академии наук снарядил экспедицию под руководством старшего зоолога Зоологического Музея О. Ф. Герца, в неё также вошли препаратор Е. Пфиценмайер и геолог П. Севастьянов. На снаряжение экспедиции было выделено 16 тыс. рублей[4].
3 мая 1901 года экспедиция Академии Наук достигла Иркутска: там предстояло приобрести для экспедиции снаряжение, которое невозможно было достать в более дальних пунктах маршрута. Из Иркутска на телегах и лодках экспедиция добралась до Усть-Кута. Оттуда пароход «Почтарь» доставил её 1 июня в Якутск. В Якутске предстояло подготовиться к конному переходу до Среднеколымска длиной более 3000 километров, по болотистому бездорожью, пересечённому малыми и большими реками, а также горными хребтами, пусть и невысокими. Поскольку в этих местах практически нет оседлого населения, все необходимые мелочи надо было взять с собой. Закупка и упаковка снаряжения, переговоры с местными обитателями, доставлявшими припасы и оказывавшими разные услуги, тянулись очень медленно, что злило деловитого Герца. В письме директору Зоомузея, отправленном из Якутска 14 июня 1901 г., он пожаловался: «При апатичном характере местного населения очень трудно добиться исполнения работы или заказа даже при помощи просьб и хорошего вознаграждения; если не присутствовать самому при исполняемой работе и не настаивать на скором её выполнении, то приходится довольствоваться одними пустыми обещаниями»[3].
От Среднеколымска до Берёзовки

В Среднеколымске были наняты два жителя в качестве проводников – казак и местный учитель якут, уже имевший опыт участия в научных экспедициях (в своё время он сопровождал И.Д. Черского)[3].
Там же Герц встретился с Николаем Леопольдовичем Горном, который должен был сопровождать экспедицию к месту находки мамонта (150 вёрст по реке и оттуда ещё 150 верст верхом через тайгу). Иннокентий Николаевий Явловский должен был ожидать учёных у туши мамонта и оберегать её от ненасытных лесных зверей, которые и так потрепали её. Третьего сентября он приехал к Герцу в заимку Мысовую и сообщил: прошли сильные дожди, бурными потоками воды «с задней части трупа оборваны кости, вся его спина лежит неприкрытою, а голова совершенно съедена медведями и волками… от хобота не было найдено и следа». Явловский постарался завалить мамонта землей и камнями, чтобы спасти его от съедения[3].
Только в начале сентября 1901 г. Герц своими глазами увидел местонахождение мамонта и оценил масштаб предстоящих работ. С ним были несколько рабочих, нанятых в Среднеколымске, а также небольшой табун лошадей, купленный в заимке Быстрой по пути на Берёзовку. Сначала эти лошади везли экспедиционный груз, а потом должны были стать пищей для Герца и его команды. Пуды мамонтового мяса они все-таки не решились использовать для еды, хотя в нетронутых гниением частях тела мамонта оно не пахло и на вид «было столь же свежо, как и свежее сильно промёрзшее бычачье или конское мясо». Они долго «советовались, не отведать ли нам этого мяса, так как оно имело очень аппетитный вид, однако никто не мог решиться взять его в рот, и ему предпочитали конину. Брошенное собакам мясо мамонта съедалось весьма охотно» (дневник Отто Герца, запись от 05.10.1901)[3].
Раскопки
Экспедиция разместилась в небольшой избушке, построенной примерно в полутора километрах от местонахождения. Даже там чувствовался смрад гниения, о котором в мемуарах 1926 года с содроганием вспоминал Пфиценмайер. Ещё одну избушку соорудили прямо над трупом. В ней день и ночь топились печи, помогавшие растопить мёрзлый грунт, который не поддавался ни кирке, ни лопате. Никаких технических средств, чтобы извлечь мамонта целиком, у Герца не было, да и будь это возможным, доставить огромную тушу даже в Якутск было немыслимо. Единственный выход был – расчленить труп на фрагменты, положить каждый в особый мешок, тщательно упаковать и потом снова заморозить, чтобы доставить в Иркутск по зимнику. Каждый фрагмент фотографировали и описывали. Когда на поверхности показался почти неповреждённый волосатый хвост, со всеми хвостовыми позвонками, радость была так велика, что «охотники за мамонтом» бросили свою работу и прокричали «ура, ура, ура!!»[3].
«Укупорка мамонта» (так назвал это Иннокентий Явловский) проводилась в экспедиционной избе. «Самая заботливая мать не сумеет нести своего ребенка более бережно, чем я переносил эти остатки допотопной фауны до нашей зимней избы» (дневник Отто Герца, запись от 25.09.1901)[3].
Отдельно были упакованы содержимое желудка, а также остатки травы, обнаруженные в ротовой полости мамонта[3].
Доставка в Санкт-Петербург
11 октября 1901 г. работа по извлечению мамонта была закончена, и экспедиция двинулась в обратный путь, подробно описанный Герцем в отчёте и письмах. Путь пролегал в районе Верхоянска, который в то время считался северным полюсом холода. Только 6 февраля 1902 г. экспедиция Герца благополучно прибыла в Иркутск, а 18 февраля её участники вернулись в Санкт-Петербург. Расчленённый труп мамонта прибыл туда же в специальном вагоне-рефрижераторе, выделенном Министерством путей сообщения[4].
11 марта 1902 г. останки мамонта осматривала императорская чета в сопровождении президента Академии наук великого князя Константина Константиновича и в присутствии ещё одного великого князя – Сергея Александровича с супругой, сестрой императрицы Елизаветой Фёдоровной. В отчёте Зоомузея говорилось: благодаря Герцу и его помощникам музей получил «единственный в своем роде и драгоценнейший объект, которым Импер. Академия Наук может гордиться и который, несомненно, послужит одной из достопримечательностей С.-Петербурга»[3].
Научное обобщение
27 февраля отчёт Герца об экспедиции был заслушан в заседании Физико-математического отделения Академии наук[3].
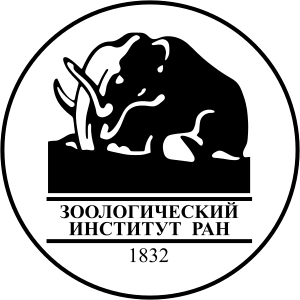
Отчёт по Зоологическому музею Императорской академии наук за 1902 г. открывается восторженным описанием нового уникального экспоната его коллекции. Учёные смогли доподлинно узнать не только о внешнем виде мамонта, но и устройстве его внутренних органов и кожного покрова, рационе питания. Были получены конкретные сведения о растительности позднеплейстоценовой «тундростепи». В 1903 году вышел в свет первый том научных трудов, специально посвящённых описанию мамонта и среды его обитания. До 1914 г. Академия издала ещё два тома из этой серии[3].
В 1903 году уникальное чучело Берёзовского мамонта было выставлено для обозрения в музее.
Описание
Находка представляла собой замороженный труп взрослого (45—50 лет) самца мамонта. Мамонт лежал в необычной позе — на животе, с вытянутыми вперёд и немного согнутыми ногами. Верхняя часть головы и спина уже оттаяли, поэтому их сильно погрызли хищники. Также не было большей части хобота. У мамонта при жизни были сломаны таз и плечо. Очевидно, животное умерло почти мгновенно, свалившись в глубокую промоину или упав с обрыва; во рту зверя Герц обнаружил непережёванные остатки травы. Сохранившиеся растительные останки определили как Carex sp.[5] (осока), Thymus serpillum (тимьян ползучий), Ranunculus acer (лютик едкий), Gentiana sp. (горечавка), Cypripedium sp. (башмачок) и Papaver alpinum (альпийский мак)[6]. У многих растений обнаружились семена, поэтому считается, что мамонт погиб в конце лета.
Современное состояние
Экспозиция воспроизводит картину раскопок, поэтому чучелу придали ту же позу, в которой находилось замороженное тело мамонта.
Древность находки
Радиоуглеродный анализ указывает, что возраст Берёзовского мамонта около 44 000 лет.
Примечательные факты
- Берёзовский мамонт упоминается в рассказе немецкого писателя Ганса Гейнца Эверса «Конец Джона Гамильтона Ллевелина»[7] и в книге Линкольна Чайлда «Лёд-15».
См. также
- Мамонты
- Сопкаргинский мамонт
- Мамонтёнок Люба
- Киргиляхский мамонт
- Таймырский мамонт
- Ямальский мамонтёнок
- Ленский мамонт
Примечания
- ↑ Перейти обратно: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Максим Викторович Винарский. Необычайная карьера Отто Герца. Из охотника за бабочками в охотники за мамонтом. GoArctic (24 февраля 2023).
- ↑ Колесов С. Д. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОСТАТКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ "ЕНГЕ-ЮРЮЕ" СРЕДНЕКОЛЫМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. — Якутск, 2020. — № 4. — ISSN 2618-9712.
- ↑ Перейти обратно: 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 Максим Винарский. Необычайная карьера Отто Герца. Триумф и трагедия День и ночь топились печи, помогавшие растопить мёрзлый грунт, который не поддавался ни кирке, ни лопате. GoArctic (27 февраля 2023).
- ↑ Перейти обратно: 4,0 4,1 В.А. Королёв. ГЕРЦ АЛЬФРЕД-ОТТО ФЕДОРОВИЧ. Галерея лепидоптерологов России (2010).
- ↑ sp. в биологии — обозначение для случаев, когда род известен, а вид не установлен.
- ↑ Holger Perner. Башмачки рода Cypripedium в Китае (Bifolia и Flabellinervia). orchids.ua (2009). Дата обращения: 21 марта 2013. Архивировано 21 марта 2013 года.
- ↑ Ганс Гейнц Эверс. Конец Джона Гамильтона Ллевелина